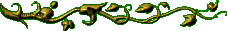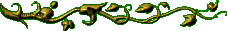А. СОЛЖЕНИЦЫН "ИОСИФ БРОДСКИЙ - ИЗБРАННЫЕ СТИХИ"
Этот томик избранных
1 (сочинений) , если читать весь подряд... Тут остановлюсь. В каком порядке стихи расположены? Не строго хронологически, этому порядку Бродский не вверяется. Значит, он нашёл какую-то иную внутреннюю органическую связь, ход развития? Тоже нет, ибо, видим: от сборника к сборнику последовательность стихов меняется. Стало быть, она так и не найдена. Но вот, когда читаешь весь том подряд, то, начиная от середины, возникает как бы знание наперёд всех приёмов и всего скептико-иронического и эпатирующего тона. Иронией - всё просочено и переполнено. Юмор? Если и просквознёт изредка, то не вырываясь из жёсткой усмешки.
Известно: после Первой Мировой войны ирония как манера взгляда на мир всё более захлёстывала западных интеллектуалов. До двух третей века многообразные советские заслоны мешали этому потоку захватить и подсоветские умы. С брежневской эпохи перетёк начался и к нам, сперва в сферу частной (или “кухонной”) мысли. Но уже с 80-х годов завидно уверенно возглашается: “ирония - религия нашего века”, она захватывает весь небосклон мировосприятия, затем и самого субъекта: в XX веке для пишущего “невозможно принять [и] себя абсолютно всерьёз”. (Хотя, заметим, каждому Божьему творению дано отроду чувствовать всё существующее всерьёз.)
И мода эта не могла не заполонить Иосифа Бродского, возможно, при очевидной его личной уязвимости, - и как форма самозащиты. Иронию можно назвать сквозной чертой, органической частью его мирочувствия и всеохватным
образом поведения, даже бравадно педалируемым (в чём проглядывает и признак беспомощности). Неизменная ироничность становится для Бродского почти обязанностью поэтической службы.
Едче всего изъязвить таким подходом любовную ткань. Вот берётся Бродский за сюжет Марии Стюарт, столь романтически воспетый многими, и великими, поэтами. Но романтика для него дурной тон, а проявить лиричность - и вовсе недопустимо. И он - резкими сдёргами профанирует сюжет (заодно - и саму сонетную форму), снижается до глумления: “кому дала ты или не дала”, “для современников была ты блядь”, и даже к её статуе в Люксембургском саду: “пусть ног тебе не вскидывать в зенит”. Ещё и диссонансами языковыми: “сюды”,“топтоп на эшафот”, “вдарить”, “вчерась”, “атас!”, “и обратиться не к кому с „иди на””, - и это чередуется со светскими реверансами - какое-то мелкое
петушинство. И весь цикл (оттенённый признанием, что именно Мария Стюарт его, мальца, “с экрана обучала чувствам нежным”) написан словно лишь для того, чтобы поразить мрачно-насмешливой дерзостью.
Вот (“Пенье без музыки”) растянутая на 240 строк попыткаобъясниться с одной из отдалённых возлюбленных минувшего времени, насколько он остаётся с нею неразлучим, - апофеоз хладности и рассудливости, не случайно ещё и построенный на геометризме (впрочем, шатком: перпендикуляр-то восставил, но спутал катет с гипотенузой, а сам образ звезды, на которую смотрят оба они, - стар, как мир). Или, вот, ещё объяснение, в необратимой разлуке (“Прощайте, мадмуазель Вероника”). Стих по замыслу любовный? Но растянут на 160 строк
ледяного холода (вместо тёплого бы восьмистишья?) и ещё засушен сложной строфикой, вытягиваемой изневольно выкрученными фразами, и всё с переносами, перено сами из строки в строку. Форма не вмещает? - но никак не чувства.
Чувства Бродского, во всяком случае выражаемые вовне, почти всегда - в узких пределах неистребимой сторонности, холодности, сухой констатации, жёсткого анализа. И когда Бродский пишет о себе “кровь моя холодна”, и даже “я нанизан на холод”, - это кажется вполне верным внутренне, а не по внешнему объяснению (“я не способен к жизни в других широтах”). В этом неизменно при полярном душевном климате поражает скорее чувство, остро проступившее: “в темноте всем телом твои черты, / как безумное зеркало повторяя”.
Отдельно заметно выделяется лишь рассеянный по годам цикл стихов, посвящённых М. Б. В исключение ото всего остального корпуса стихов
Бродского в этом цикле, хотя и не сплошь, проявляется несомненная устойчивая привязанность, заножённость. Тоска по этой женщине прорезала поэта на много, много лет. Тут - прекрасные (и уже не длинные и уже отчётливее написанные, без синтаксических увязаний) стихи “Песенка”, “Семь лет спустя”, “Горение”, “Я был только тем, чего / ты касалась ладонью...”. И “Anno Domini”, хотя тут уже с античной стилизацией. Но “Строфы” (“Наподобье стакана”) Бродский застуживает в долготе 200 строк и всё холодеющих размышлений. Так и “Келомякки” (к ней же) - 120 строк, и повёрнуты на предметную обстоятельность, утомительную рассудительность, - хотя тут и так несвойственное этому автору: “холодея внутри, источать тепло / вовне”. А в “Элегии”, - “До сих пор, вспоминая твой голос, я
прихожу / в возбужденье”, - если эта начальная строка верна, то всем остальным грузным стихом (защитной рефлексией?) чувство засушено (в прикрытие ли раны?).
Совсем другой полюс искреннего чувства поэта прокололся в раздражённейшей “Речи о пролитом молоке” (ещё 320 строк). В ней Бродский дважды повторяет: “Я сижу на стуле, трясусь от злости” - и по всему капризному стиху это разлито, “всех, скорбящих по индивиду (...) / всех к той
матери по алфавиту”... (Написано в его 27 лет.)
Беззащитен оказался Бродский против издёрганности нашего века: повторил её и приумножил, вместо того чтобы преодолеть, утишить. (А ведь до какой бы хаотичности ни усложнялся нынешний мир - человеческое созданье всё
равно имеет возможность сохраниться хоть на один порядок да выше.) Из-за стержневой, всепроникающей холодности стихи Бродского в
массе своей не берут за сердце. И чего не встретишь нигде в сборнике - это человеческой простоты и душевной доступности. От поэзии его стихи переходят в интеллектуально-риторическую гимнастику. Этот эффект усиливается от столь же устойчивого, сквозного мировосприятия автора: он смотрит на мир мало сказать со снисходительностью - с брезгливостью к бытию, с какой-то гримасой неприязни, нелюбви к существующему, а иногда и отвращения к нему. Да и прямо пишет: “Вещи и люди (...) терзают глаз. / Лучше жить в темноте. (...) Мне опротивел свет (...) как я переношу / небытие на свету”
(“Натюрморт”). “И вкус во рту от жизни в этом мире, / как будто наследил в чужой квартире / и вышел прочь!” Немало сти
хов, где Бродский выражает омерзение к тому, что попадается на глаза: тут и луны “прыщавая скула” и “часть женщины в помаде / в слух запускает длинные слова, / как пятерню в завшивленные пряди”, - а мысли покрупней в тех стихах, бывает, и не найдёшь. Люди? - в “наготе складках” мира “больше любви, чем в лицах”. А и пейзаж вообразить “лучше всего безлюдный”, да уж “ничего нет ближе, чем вид развалин”. правда, пейзажи у него большей частью безлюдны и лишены движения, а то и сгустки уныния (“Сан-Пьетро”). И при таком сплошном тускло-мрачном восприятии мира - неправдоподобно звучит единственный диссонанс: “пока мне рот не забили глиной, / из него раз-даваться будет лишь благодарность”. Но кроме этих строк - именно-то Благодарность в стихах Бродского не звучит, нет.Не удивительно, что сильнейшую встряску испытал Бродский, в его 24 года, от судебно-ссыльных испытаний. Впечатления эти он выразил в преувеличенно грозных стихах: “Я входил вместо дикого зверя в клетку, / выжигал свой срок и кликуху гвоздём в бараке...” (Срок - первоначально 5-летний лагерный - сведен был к 17 месяцам деревенской ссылки, по гулаговским масштабам полне детский.) Ю. Чапский пишет, со слов Ахматовой 2,
что Бродского на три дня отпускали из ссылки в Ленинград и “самые авторитетные светила признали его больным”, он привёз оттуда - медицинские справки о психопатии и других болезнях, но местный начальник не признал их достаточными для освобождения от работ. - Такая поездка видна и из дневника Л. К. Чуковской 3; дал и местный врач освобождение от тяжёлой работы, но местное начальство не
уступило.
Более достоверен тяжёлый отпечаток ссыльных месяцев на тамошних его стихах. “Как смолу под корой, спрячь под веком слезу”; “...легла бессмысленности тень / в моих глазах (...) / Лишь сердце вдруг забьётся,
отыскав, / что где-то я пропорот”; “Отчего молчишь и как сыч глядишь?”; да ещё ж этот скрип телег: “дерут они глотку свою” и “деревья слышат не птиц, / а скрип деревянных спиц / и громкую брань возниц”; “Или спрячусь, как лис (...) / от двуствольных глазниц. /
Спрячь и зажми мне рот! / Пусть при взгляде вперёд / мне ничего не встретить, /
кроме жёлтых болот”; “лик её [природы] (...) делается злым. / И всею пятернёю чувств (...) / отталкиваюсь я от леса”; “в моей груди / всех призраков и мертвецов буди”; “среди пустых небес / (…) бреду я по ничьей земле / и у Небытия прошу аренду”; “Да, здесь как будто вправду нет меня. / Я где-то в стороне”; “Тут, захороненный живьём, / я в умерках брожу жнивьём” и “стерня, / как волосы на теле мёртвом”; “Вот я стою в распахнутом пальто, / и мир течёт в глаза сквозь решето, / сквозь решето непониманья”. Ярко выражено, с искренним чувством, без позы. И - что это? Даже сквозь поток ошеломлённых жалоб - дыхание земли, русской деревни и природы вне- запно даёт ростки и первого понимания: “В деревне Бог живёт не по углам, / как думают насмешники, а всюду. / Он освящает кровлю и посуду (...) / В деревне он в избытке. В чугуне / он варит по субботам чечевицу (...) / Возможность же всё
это наблюдать (...) / единственная, в общем, благодать, / доступная в деревне атеисту”. И новое настроение: “Не перечь, не порочь”. И сам уже в действии: “Воззри сюда, о друг- / потомок: / во всеоружьи дуг, / постромок, / и двадцати пяти / от роду, / пою на полпути / в природу”. И даже такие прекрасные строки: “То ли песня навзрыд сложена / и посмертно заучена”.
Животворное действие земли, всего произрастающего, лошадей и деревенского труда. Когда-то и я, ошеломлённым городским студентом угодив в лошадиный обоз, испытал сходное - и уже втягивал как радость. Думаю: поживи Бродский в ссылке подольше - та составляющая в его развитии могла бы существенно продлиться. Но его вскоре помиловали, вернулся он в родной 4 город, деревенские восприятия никак не удержались в нём. Теперь “в жадный слух (...) / не входят щебет или шум деревьев - / я нынче глух”, и стало в нём вскипать сильнейшее раздражение: хоть “лезть под кран, дабы / рассудок не спалила злоба”. Мы уже видели в “Речи о пролитом молоке”: “Я сижу на стуле, трясусь от злости (…) / Двадцать шесть лет непрерывной тряски, / рытья по карманам, судейской таски (…) / В голове моей только деньги”. Мировая слава
Бродского вокруг его судебного процесса поначалу сильно перешагнула
извест- ность его стихов. И, по-видимому, произвела сильное впечатление на самого поэта. На процессе защищав, по сути, лишь свой поздний тезис, что “искусство есть форма частного редпринимательства”, он позже, в успехе, отклонился от
верной самооценки. Ему начало мниться, что он провёл гигантскую
борьбу с коммунистическим режимом, нанёс ему страшные удары, он сравнивает себя с Тезеем, победителем Минотавра (“К Ликомеду, на Скирос”): “Вот она, победа! / Апофеоз подвижничества”. И от накала этой, не явленной, борьбы возмущается окружающей трусостью: “дерьмо мужчины: / в теле, а духом слабы”. (Как раз защитники Бродского явили нерядовое мужество.)
После нескольких лет запретной цензуры и, вероятно, растущего раздражения, Бродский эмигрировал. По общепринятой ныне версии о насильственном изгнании пишется об этом так: “В 1972 году советские власти вручили Бродскому, вопреки его желанию, визу на выезд в Израиль, фактически выслали из СССР”. Сам Бродский пишет куда честней: “Бросил страну, что меня вскормила”, “я сменил империю. Этот шаг / продиктован был тем, что несло горелым / с четырёх сторон”. (Может быть, ещё какие-то детали объяснились бы
нам из письма Бродского Брежневу 4.6.72, упоминаемого немецким журналистом Юргеном Серке в его книге 4.) И позже: “А что насчёт того, где выйдет приземлиться, / земля везде тверда; рекомендую США”.
И так получилось, что, выросши в своеобразном ленинградском интеллигентском круге, обширной русской почвы Бродский почти не коснулся. Да и
весь дух его - интернациональный, у него отприродная многосторонняя
космополитическая преемственность. Это открыло путь и его ранней привязанности к английской поэзии (уже в 23 года - отменно удачная “Большая элегия Джону Донну”, немногим позже - столь характерные для него “Стихи на смерть Т. С. Элиота”). И - весьма удавшиеся его стилизации под античность. Это началось у него будто как игра - но игра, увлекшая его, и успешная. Он начинает как бы и реально жить в заёмном стиле “патрицианства”. Уже и ссыльные стихи Бродского начиняются Августой, Полидевком, Эвтерпой, Каллиопой - это, может быть, якорь
душевной устойчивости при его растерянности и отчаянии в ссылке. И правда, почему поэту не продолжить оборванную традицию уже умершего народа? Скажем, “Письма римскому другу” звучат и дышат так, будто и в самом деле дошли к нам из древнего Рима. Другие - вызывают сомнения, как поэмка “Post aetatem nostram” - уже не в каждой своей части обязательная: это рискованное погружение в бытовые детали неведомой греческой провинции, реалистичность до
подробностей, ещё угаданных ли? Тут - чувствительно неосторожна
всякая игра, например, с древней латинской пословицей: “„Dum spiro spero”, как сказал Декарт” (?). Корпус стихов Бродского на античные мотивы отметно и выгодно
выделяется во всём его наследии. Молодой Бродский заявлял: “Я заражён нормальным классицизмом”, “я отдал предпочтенье классицизму”. Однако: такую отчётливость, даже до прозрачности, мы редко встретим у Бродского: конечно же в чеканном “Сретеньи”, может быть в насмертии Жукову и к столетию Ахматовой, и эти
яркие стихи только рельефнее выделяют однообразный тон многих других. Тон, по выражению самого автора, - “блеклый голос, / вьющийся между”
срифмованными строчками. Тут надо начать с рифм. В рифмах Бродский неистощим и высоко
изобрета телен, извлекает их из языка там, где они как будто и не существуют. Рифмы - очень находчивые, являют его тонкое фонетическое ухо, много свежих и смелых, очень расширил пределы рифмы: подробней - кровлей, плевел - север, отметки
- по-немецки, горних - треугольник, средство - сердце; нередко
играет ими в троерифмиях: звёзды - извёстка - войско, добавляет ещё и внутри строк. При такой смелости, разумеется, переступает и меру, уже в спорность: та же “извёст ка” рифмует у него с “известный”, ропот - рапорт - рупор, подделке - кривотолки, уехала - около и др. И повторы рифм у него редки, кроме злоупотребляемого выноса предлога под конечное ударение.
Однако за эти просторные рифмы и за конструкцию изощрённых строф (ещё усложняемую разматыванием последствий рифмовки) Бродскому приходится платить большую цену. Эти же рифмы ведут его к безмерному (ускользающему от стройного смысла) наплетанию строк и строф - а рифмы, за которыми сперва
внимательно следишь, уже перестают играть свою скрепляющую роль, перестают даже замечаться, они уже не работают; и когда вдруг (редко)
стих белый, то и не сразу замечаешь, что белый. А в рифмах-то и немалое мастерство Бродского. И ещё. В угоду сложной форме строф Бродский увлекается многоречием до захлёба, бывает вынужден разжижать текст, наполнять иные строфы
вставными сторонними или банальными, а то и пустыми строками, только отвлекающими наше внимание; а сами строки дополнять необязательными словами и синтагмами. (Или фиксируется отброшенный в поисках вариант: “клеток - / то есть извилин”.) Вообще, с суверенностью строки в строфе, а то и целой строфы, - Бродский мало считается. Пресловутый enjambement, перенос из строки в
следующую строку, - из редкого, интонационно выразительного приёма у Бродского превращается в затасканную обыденность, эти переносы уже не несут в себе эмоционального перелива, перестают служить художественной цели, только утомляют без надобности. И то, что сперва воспринимается свежо, - ставить под перенос
предлог “на” или отрицание “не”, - от безмерно обильного употребления
приёма становится уже навязчивым и безвкусным. Настойчивая игра
переноси мых предложных переходов из строки в строку вносит не жар, как у Цветаевой, - но обдуманную аналитичность. А разбитие “то / есть” в две разные строки - уже не искусность, а неряшество: вторую строку, начатую с урезанного “есть”, уже и понять нельзя.
Вспомним, как Набоков сказал о Пушкине: “Каждый из его переносов естест-венны[й], как поворот реки”. (Интересно отметить, что в нескольких стихах - тотчас за 40-летием Бродского, когда на время возвращается та упругость, как будто намечавшаяся в начале его поэтического пути, - численность этих пере-носов заметно уменьшается, и недоконченные фразы хоть и плутают по строкам, но нет такого увязания. К сожалению, эта перемена не
утвердилась.)
А ведь только разохоться переносить - и синтаксические обороты вот уже не
помещаются и в целых строфах; составными единицами стиха
становятся уже даже не строфы, а группы строф - отчего раздувается объём стиха, расплывается форма. В иных (“Anno Domini”) - не завершена почти и каждая строфа, они цеп-ляются друг за друга. От этой невместимости уже и в
строфу возникает вязкость
текста, нескончаемых фраз, закрученных
цепочек ассоциаций - и автор и чита-
тель с трудом вытягивают из них ноги, как
из плетучей травы. Вязкая форма
стиха заблуживает автора среди лишних, сбоку
притягиваемых предметов,
обстоятельств, боковых наростов, даже целых опухолей.
Или, напротив, это
помогает ему выразить непреодолимость земной, бытийной
вязкости? Но при
обоих объяснениях - создаётся впечатление нарочитого
косноязычия, - неравно, конечно, от провального стиха - и к удачному.
Такое впечатление, что стихи нередко и рассчитаны на
встречное напряжение
читателя или ошеломить его сложностью. Многие из них
заплетены как ребусы,
головоломки. Насквозь прозрачный смысл в
стихотворении бывает не часто. (Ну,
это не у него же первого.) Сколько
искрученных, исковерканных, раздёрганных
фраз - переставляй, разбирай. Иные
фразы так и не составились вовсе, “в грамматику без / препинанья”. Бывают
фразы с непроизносимым порядком слов.
Существительное от своего глагола или
атрибута порой отодвигается на неосмысляемое, уже не улавливаемое расстояние;
хотя формально имеется согласование, но до смысла нелегко доискаться. Фразы
длиной по 20 стихотворных
строк - это уже невладение формой? Переобременённые
фразы приводят и к
несуразным внутренним стыкам. Уморчиво было бы приводить
примеры всех
нескладиц.
Есть стихи и циклы, формально обозначенные как нечто целое,
но не скреп
лённые в себе, внутреннее единство в них уже растеряно, распалось.
От строфы
к строфе плетётся капризное мелькание мыслей, фантазий или
малосмысленные
словесные переливы: “А почему б не называться птичке /
Кавказом, Римом,
Кёнигсбергом, а?” - Или, словами автора: “это - ряд
наблюдений”, “это -
записки натуралиста”. И если цикл “Часть речи” сквозь
многие отклоны излоения насажен на единый стержень неутолённого, скорбного
любовного чувства, - то циклы “Колыбельная Трескового Мыса”, таков же и
“Литовский ноктюрн” (да каждый - по 300 строк) воспринимаются как надуманные
конгло мераты.
Стихи Бродского часто движутся сильнейшим желанием спрятать
чувство, и
оттого впечатление, что стих не вылился, а -
расчётливо сделан. Порой поэт
демонстрирует высоты эквилибристики,
однако не принося нам музыкальной,
сердечной или мыслительной радости.
Виртуозность тоже становится одно образной. Как сказал Ж.-Ф. Милле: горе
художнику, талант которого больше
бросается в глаза, чем его создание.
Поэт настолько выходит из рамок силлабо-тонического
стихосложения, что
стихотворная форма уже как бы (или явно) мешает ему.
Он всё более превращает
стих в прозу (но и тоже очень нелёгкую для чтения).
Начинаешь воспринимать
так: да зачем же он вставляет в прозу рифмы? Бродский
революционно сотрясает русское стихосложение. (В единственном нашем
обмене письмами, году в 1978, я написал ему об этом.) Он вносит - сразу много
резче, чем требует эволюция протекающего времени.
Бродский настойчиво придаёт своим стихам музыкальные
названия: ноктюрн,
полонез, квинтет, дивертисмент, романс, ария, колыбельная,
песня, песни,
песенка, пенье... В тексте нередко встречаем образования
“до-ре-ми” и ещё
длинней цепочки. Однако: музыкальности - во множестве его
стихов никак не
найти, не услышать, именно звучания, богатого и
значительного, скорей - звуковое однообразие. А иногда - нарочито режущая
фонетика. И ещё этот шип
возвратных причастий: движу щиеся,
развеваю щиеся, болтаю щейся. Сопоставлю и с одобрительным замечанием Бродского о
Вяземском, что он
“был поэт из тех, для кого мысль в стихотворении важнее
гармонии, кто готов
пожертвовать музыкальностью и балансом ради сложности и
точности мысли” 5.
А вот о себе: “Моя песнь была лишена мотива, / но
зато её хором не спеть”. Распространено противоположное мнение: что стихи Бродского
даже особо
музыкальны. Ссылаются на его манеру чтения. Мне не пришлось его
чтения
слышать. Но я принципиально считаю, что качество стихов не должно
зависеть
от авторской манеры чтения. Уравнительно с поэтами минувшего времени:
стихи должны звучать прямо с бумаги.
Принятая Бродским снобистская поза диктует ему строить свой
стиль на резких
диссонансах и насмешке, на вызывающих стыках разностильностей,
даже и без
оправданной цели. Если это реминисценции (а их немало у него, любит
их, хотя
какое уж это богатство), то - почти всё с насмешкой: “Служенье Муз
чего-то там
не терпит”, “см. светило, вставшее из вод”, “Я вас любил. Любовь
ещё (возможно)”, “как дай вам Бог другими - но не даст!” - и другие в той же
подростковой
манере снижения во-что-бы-то-ни-стало. Молодой Бродский ещё
извинялся:
“Ты, несомненно, простишь мне этот / гаерский тон. Это - лучший
метод / сильные чувства спасти от массы / слабых”. Но и с годами манеру эту
он, к сожалению, не преодолел, скорее растиражировал.
И грубую разговорность он вводит в превышенных, неоправданных
дозах.
Текут виртуозные строфы - и вдруг втёсывается: “Кой ляд быть у
небес /(...) в
реестре”. - “Непротивленье (...) мне - как
серпом по яйцам”. - “Хватит трепаться о пополаме”. - Не всегда отчётливо
проведёшь границу, где эпатаж, а где языковое неряшество: “любая душа
переплюнет лбедник”; “находились
внутри из
числа / людей, находившихся там постоянно” - ну чт
бо бы разуподобить слово
(это из прекрасного
стихотворения)?
Образы, тропы, сравнения бывают хороши: “дождь щиплет камни,
листья”,
“дождь стёкла пробует нетвёрдым клювом”; лодки, баркасы, “как
непарная обувь,
разбросаны на песке”; это же сравнение (по забывчивости?)
повторяется: лодки
- “как непарная обувь с ноги Творца”; “вода, наставница
красноречья”; осенний
лист, “падающий, как обагрённый князь”; “стена осела
дёснами в овраг”; “верени
ца бутылок выглядит как Нью-Йорк”; “колонны с
дорическою причёской”; в горле
“холодным перлом перекатывается Гораций”;
“небосвод разлук / несокрушимей
потолков убежищ”; “тех нет объятий, чтоб не
разошлись, / как стрелки в полночь”;
“праздник кончиков пальцев в плену
бретелек”, “пол-литровая грудь”, и это ещё
не всё, разумеется.
А бывают и натянутые: “Луна, что твой генсек в параличе”;
“звезда - мозоль,
натёртая в пространстве светом”; “облокотясь на локоть, /
раковина ушная” (эту
тавтологию “облокотясь на локоть” повторяет он не раз).
На многих надуманных
образах отпечатлелась трудность их рождения или
вымучивания: “подобие алфа вита, / тепло есть знак размноженья вида / за
горизонт”; мотылёк от оконной
железной сетки “отскакивает, точно пуля, /
посланная природой (...) / в самоё
себя”; “поклёп постели, / сонный, на
потолок”; “радиус, подвиги чьи / в
захолустных садах созерцаемы выцветшей
осью” - забезмерился в поисках образа.
Впрочем не упрекнуть, что стихи
Бродского перенасыщены метафоричностью,
как это стало модным в те же
десятилетия. А в поздние его годы образность стала
вялей, поиски ленивей.
Однако во всех его возрастных периодах есть отличные стихи,
превосходные
в своей целости, без изъяна. Немало таких среди стихов,
обращённых к М. Б.
Великолепна “Бабочка”: и графическая форма стиха и
краткость строк передают
порханье её крыльев (тут - и мысли свежи). “На
столетие Анны Ахматовой” -
из лучшего, что он написал, сгущённо и лапидарно.
“Памяти Геннадия Шмакова”:
несмотря на обычную холодность также и надгробных
стихов Бродского, этот
стих поражает блистательной виртуозностью, фонтаном
эпитетов. - И наконец
разительный “Осенний крик ястреба”: эти смены взгляда -
от ястреба на землю
вниз, и на ястреба с земли, и - вблизи рядом с летящим,
так что виден нам “в
жёлтом зрачке (...) злой / блеск
(…) помесь
гнева / с ужасом” - и отчаянный
предсмертный крик птицы (“и мир на миг / как
бы вздрагивает от пореза”) - и
ястреба разрывает со звоном, и его оперенье,
опушённое “инеем, в серебре”,
выпадает на землю, как снег. Это - не только из
вершинных стихотворений
Бродского, но и - самый яркий его автопортрет, картина
всей его жизни.
А в “Облаках” проявил Бродский необычный для себя
непритязательный, лёгкий лирический тон. Некоторые стихи ранней молодости -
“Ты поскачешь во
мраке...” (хотя ещё сильно подражательно), “Рождественский
романс”, “В твоих
часах...” - дают нам представление, каким естественным и
благодарным путём
развития мог бы пойти Бродский. Однако и рано же начались
его деконструктивные эксперименты, отвлекшие от скульптурности формы.
Многолетнее пребывание на Западе дало Бродскому множество
наблюдений,
обильно отражённых в его стихах. И здесь не английские оказались
на первом
месте. (“Темза в Челси” силится высказать нечто значительное, а
нанизывается
пустоватое.) Удачно и разнообразно переданы мексиканские
(“Мексиканский
дивертисмент”); очень уж запоминается меткое: “где у черепа в
кустах всегда три
глаза”. И - множественно, и удачно - итальянские, более всего - Венеция,
излюбленная им.
Бродский весьма отдаёт себе отчёт, как важна родственность
языку, на котором
пишешь, и не раз об этом высказывался, что даже и цели иной
не имеет, как
только служить русскому языку. В год эмиграции: “всё, что творил
я, творил...
ради речи родной, словесности”. Но тут оценки могут сильно разойтись. Глубинных возможностей русского языка Бродский вовсе не использовал, огромный
органический слой русского языка как не существует для него, или даже ему не
известен, не проблеснёт ни в чём. Однако обращается он с языком лихо, то нервно его ломает, то грубо взрывает разностилем, неразборчив в выборе слов, то просто небрежен к синтаксису и грамматике. Поэт широко открыл вход для таких выражений, которые, отдельно прочтя, трудно признать осколками стихов, поэтическими оборотами: является в одно и то же время; представляет собой; посредством луж; при содействии луж; ряд
наблюдений; предъявляя транзит; освоение космоса; данная песня; данный
эффект; о вещах, не имеющих отношения; с точки зрения ландшафта; максимум крики чаек; в определённом возрасте; плюс готовность; в итоге вздрагиваешь.
|